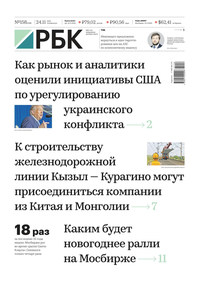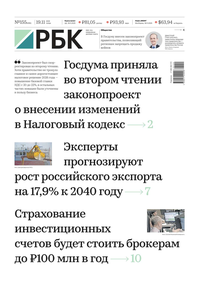Наталья Волчкова, профессор РЭШ: «В Европе системы различаются: универсальная система доступа к социальным услугам в Скандинавии, завязанность на занятость в континентальной системе Германии. Здесь важна история, важен договор между государством и обществом, который реализуется через политические институты.
Скандинавская модель — в том числе про то, чтобы инвестировать много в образование, сделать образование универсальным и даже образование взрослых сделать максимально бесплатным. Те, кто освобождается из одних сегментов экономики, через образование находят себе возможность занятости в других секторах экономики, которые сейчас растут. Это та система, которая делает экономику более гибкой и более адаптированной к открытости».
Ирина Денисова, профессор РЭШ: «В условиях неопределенности, в условиях экономических рисков оптимально иметь системные институты социального государства, которые обеспечивают солидарное финансирование. Их можно разделить на те, которые имеют страховые признаки, и те, которые способствуют софинансированию.
<...> Существуют риски: потери здоровья, потери работы, потери трудоспособности в связи с достижением определенного возраста — и есть спрос на страхование. Экономически выгодно, если есть этот спрос, обеспечивать такие системы. То, что это государственные системы, связано с тем, что частные привели бы к тому, что были бы недострахованные группы или группы, которые в связи с очень высокими ценами оказались бы исключены из систем страхования. Государство обеспечивает перераспределение, диверсификацию рисков для страховых компаний, и тогда страховые премии становятся приемлемыми и застрахованы практически все группы населения. При этом государство... выстраивает систему сбора налогов, а затем эти налоги направляются в системы софинансирования страхования от этих рисков.
Американская система, например, медицинского страхования отличается тем, что крупный и средний работодатель страхует своих работников — получается некая сегментация работников: те, кто работает на более богатую фирму, получают лучшие условия страховки. Это отличается от тех систем, финансирование которых построено либо через общий фонд медицинского страхования, или непосредственно через бюджет. Минус [американской модели] в том, что могут быть группы, которые не будут иметь предоплаченного доступа к медицинским услугам: в США это колеблется на уровне 10% населения, это очень большая цифра».
Волчкова: «Особым образом стоит Восток — восточная система, ее можно еще назвать конфуцианской, где государство играет ограниченную роль, а основная задача обеспечения социальных услуг лежит на семье и частных накоплениях. Но по мере того как восточные страны начинают расти и развиваться, растет экономическая база, с которой можно брать налоги. Теперь задача стоит в выполнении второй из пяти функций государства — перераспределительной. И мы видим рост социального государства и в Сингапуре, на Тайване, в Южной Корее. То, чего еще нет в Китае и Индии, но процесс будет двигаться в ту сторону.
Сегодня Китай порядка 8% ВВП тратит на социальные функции. Но система не универсальная: Китай предоставляет определенную пенсию пожилым гражданам, но если в городе она довольно приличная (несколько сотен долларов в месяц), то в сельской местности очень маленькая. Это один из элементов социальной системы, которая завязана на экономическую задачу, которую ставит перед собой государство. Если задача — продвижение промышленности, то требуется максимально удешевить сырье, то есть то, что идет из сельской местности.
Но нет никаких причин считать, что по мере развития Китая ситуация не будет меняться. И уже сейчас перед Китаем стоит очень важная проблема — это опережающее старение населения, которое даже небольшую пенсионную систему КНР ставит под риск невозможности покрыть социальные обязательства доходами от налогов.
С этой проблемой сталкиваются все страны, западные в том числе, и делают определенный выбор. Южные страны Европы, например, делают выбор в пользу пожилого населения. И мы видим очень высокую безработицу и довольно обеспеченную старость. Насколько устойчива может быть такая система долгосрочно, большой вопрос».
Александр Исаков, руководитель центра макроэкономических исследований «Сбера»: «Невозможно провести линию, которая бы четко отделяла меры социальной политики от всей остальной экономической политики. Любые наши решения в области, например, открытия торговли, снижения или повышения пошлин, любая промышленная политика имеют свои социальные последствия для занятости, для стабильности доходов и так далее. Пенсии платятся из доходов, которые мы производим на оборудовании, на предприятиях, в которые мы инвестировали в прошлом. Соответственно, рациональность наших инвестиций снижает или увеличивает пул доходов, который можно перераспределять. В этом смысле проблемы социальной политики не являются по своей природе финансовыми. Они не упираются в пределы дефицитов или долга к ВВП».
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ
Денисова: «Важно, насколько возмещение, которое вы получаете, привязано к взносам, которые вносили в эту систему. В российской системе дизайн того, как она устроена, позволяет это делать. Но в связи с ограниченностями бюджета в первые годы российского государства, а затем из-за того — это моя интерпретация, — что общество не возмутилось этому, вносились разного рода ограничения. Я имею в виду очень сильную компрессию выплат страховых в сравнении со взносами, которые осуществляются. Разрыв в минимальной и максимальной пенсии очень маленький, вариация очень маленькая по сравнению с вариацией зарплат. Среднедоходные, высокодоходные группы населения недострахованы. И это ведет в том числе к тому, что стимулы участвовать в этой системе уменьшаются: теневой сектор, разные варианты ухода от того, чтобы платить эти социальные налоги, поддерживаются в том числе работниками — и это влияет на финансирование». Денисова: «В условиях старения населения, которое вряд ли отменится, понятно, что текущая пенсионная система, которая используется в России, не подходит по дизайну. У вас всегда будет дефицит, по определению.
Дизайн пенсионных систем, когда из зарплат текущего населения, из налогов платится пенсия уже сейчас неработающему населению, была хороша для нестареющего населения. Многие страны перешли на альтернативу — накопительную пенсию. У нее есть свои сложности, риски, но она подходит больше к ситуации, когда доля старшего поколения устойчиво выше, чем доля молодого. В России вводилась эта накопительная система, но потом была заморожена. Этот переход требовал ресурсов, эти ресурсы решили не тратить, аргументируя это тем, что их не хватает».
ПОЧЕМУ БЕЗРАБОТИЦА ВАЖНА И НУЖНА
Денисова: «Здесь я хочу напомнить урок по базовой экономике от нобелевских лауреатов, которые изучали модели поиска работы и роль безработицы (по-видимому, имеются в виду нобелевские лауреаты 2010 года Питер Даймонд, Дэйл Мортенсен и Кристофер Писсаридес. — РБК): период безработицы — очень важное и продуктивное состояние, это время, когда работник ищет работодателя своей мечты. Если вы не можете обеспечить себе разумный период поиска такого работодателя, вы соглашаетесь на первую подходящую работу. В результате тех работодателей, которые ушли бы, потому что они не конкурентоспособны на рынке труда, поддерживают на плаву. Есть работы, которые показывают, что если есть эффективная система страхования от безработицы, то темпы экономического роста выше.
[Российский дизайн пособий по безработице таков, что пособие составляет] номинально 75% от вашей зарплаты первые три месяца, потом 60% от вашей зарплаты, потом 45%. Но не выше определенной цифры, общей по всей стране — сейчас она порядка 15 тыс. руб. Это полностью страхует только тех, у кого зарплата меньше 20 тыс. <...> Коэффициенты замещения пенсиями зарплат очень низкие: среднее значение в ОЭСР 40%, в России сейчас хорошо, если 15%. То же касается коэффициента замещения зарплат пособием по безработице — он очень низкий. Не срабатывают эти встроенные механизмы страхования от рисков. А система экономическая, если какие-то риски не застрахованы, теряет эффективность, потому что люди изменяют свои решения.
То, что у нас низкая безработица (2,1% в августе 2025 года. — РБК), — для экономики плохой сигнал. Не только потому, что не из кого выбирать работодателю, это в том числе сигнал о том, что у нас качество пар работник/работодатель, мягко говоря, неидеальное и это замедляет развитие экономики.
В скандинавских странах высокий коэффициент замещения, но люди не очень долго пользуются этим, находясь без работы. В том числе это связано с тем, что есть такой важный инструмент, как «подходящая работа». В частности, в Норвегии это требование очень жесткое: если есть такое предложение о работе, что вы можете эту работу выполнить — неважно, кем вы работали раньше, — и вы отказываетесь от очередного предложения, вы лишаетесь пособия по безработице. Это заставляет людей искать очень активно».
КАК МОГУТ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Исаков: «Во-первых, они [общие проблемы систем социального обеспечения] касаются межпоколенческой справедливости, а именно вопроса о том, кому помогать. Большинство мер поддерживают либо тех, кто еще не на рынке труда, либо тех, кто уже закончил свою трудовую деятельность и относится к старшим возрастам. Мы упоминали норматив замещения пенсиями зарплат.
Но довольно показательно, что мы редко говорим о таких вещах в отношении младших возрастов. Например, мы мало обсуждаем замещение, скажем, доходов женщин, которые выходят в декрет, по отношению к тем зарплатам, которые они получали на работе, или потенциальным зарплатам, которые они получали бы, если бы не вышли в декрет.
Вторая проблема касается выбора и противоречий между открытостью страны — для миграции в том числе — и открытостью и щедростью социальных систем. Это тяжелый вопрос, его сложно обсуждать, но он состоит в том, что наше распределение доходов и производительности труда в экономике очень неравное: больше людей на чистой основе являются реципиентами мер социальной поддержки и несколько меньше — донорами. Часто, и мы это видим из исследований на европейских данных, внешняя открытость страны приводит к тому, что социальные системы, которые довольно щедрые, видят приток реципиентов. И для всех сообществ стоит выбор между тем, как мы балансируем демографические вопросы, которые миграция помогает решать, и вопросы донастройки социальной системы, которая может дисбалансироваться из-за таких притоков.
Третья вещь касается того, насколько социальные системы отражают ценности и предпочтения обществ. В идеальном мире и в теории они отражают их идеально. В реальности обычно госпрограммы несколько более прогрессивны [перераспределительны] по отношению к ценностям общества. Это глобальный феномен».
Денисова: «Все большая доля домохозяйств состоит из одного человека. Это тот тренд, который есть в развитых странах и наметился и в России. Это некоторая новость с точки зрения экономики заботы. Отдельный вопрос: что происходит со сбережениями этой группы? Один мотив — сберегать больше, потому что вы не можете в случае, если теряете работу, положиться на доход своего партнера. Но есть другие мотивы, и калибровка моделей на немецких данных, и наши оценки по российским данным показывают, что эти домохозяйства устойчиво сберегают меньше. А значит, могут меньше тратить в том числе на вложения в какие-нибудь пенсионные инструменты. И это вызов, с которым мы будем жить. В свою очередь. большая открытость мира, которой пытаются противостоять разные страны по-разному и с разным успехом, означает, что мы будем видеть все большее перемещение людей между разными странами, и тогда вопрос, что мы выбираем: чтобы наша социальная система была закрыта и в нее не было доступа у этих людей или другое? Разные страны отвечают на этот вопрос по-разному. Есть пример опыта сближения социальных систем в странах ЕАЭС. Опыт ЕС тоже полезен». Волчкова: «Глобализация, открытость экономики повышают запрос на перераспределение. Суть международной торговли — это всегда специализация. Мы увеличиваем производство чего-то по сравнению с тем, что нам нужно, и это экспортируем. И наоборот, другие страны специализируются больше в чем-то другом и это мы импортируем. Структура экономики меняется, какие-то производители увеличивают объем производства, какие-то сокращают. Значит, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Те, кто проиграл от международной торговли, конечно, не позитивно относятся к этим изменениям и требуют компенсации. Если государство не компенсирует, это заканчивается Brexit, когда через политические каналы население требует возврата к меньшей открытости».
Исаков: «Одна из проблем в области социального обеспечения и общественных услуг связана с болезнью издержек Баумоля. Во многих отраслях производительность труда очень быстро растет: один рабочий производит гораздо больше вещей, чем 50 лет назад. В области образования, медицины и других услуг такого роста производительности не произошло по объективным причинам: там большую роль играет человек и его время. До сих пор с этим мало что можно было сделать. По нашим оценкам и по тем результатам, которые мы видим у коллег, искусственный интеллект, новые технологии имеют возможность помочь эффективнее работать части социальных работников — учителям, врачам; помогать сужать пространство диагнозов, делать какие-то подсказки. Мне кажется, что производительность труда в этой сфере значительно выиграет от новых технологий».
Волчкова: «Существенные изменения в социальной системе происходят в рамках кризисов, когда уже деваться некуда, и мы уходим от сложившегося исторически накопленного опыта управления социальной системой и используем новые возможности, которых не было раньше.
Проблемы каждой социальной системы очень своеобразные, и нет никакого правила универсального, как ее менять. Те же самые торговые войны, которые приведут и уже приводят к падению экономического роста мирового и индивидуальных стран, конечно, тоже будут выявлять проблемы социальных систем — и необходимо будет их решать. И российская система, ее пенсионная система, которая слишком равная и тем самым снижает стимулы, в том числе на рынке труда работать и участвовать, — это то, что, особенно в условиях нашей демографии, не самое благоприятное и будет требовать определенного пересмотра».
Исаков: «Мне кажется, что мы сможем делать более таргетированную, целевую, нишевую социальную политику — поддерживать людей так, как им подходит, с учетом общего контекста, иметь целевые группы размером в одного человека. У нас сложная система социальная, она требует большой интеллектуальной работы, в том числе от людей, которые являются целевой аудиторией, реципиентами, у которых мало времени, мало возможности разбираться, заполнять формы и так далее. Сейчас мы сможем принимать меры социальной политики, которые учитывают не только социально-демографические параметры, довольно стандартные, но и историю человека, его предпочтений, того, что он хочет от жизни добиться, к каким навыкам он более склонен и так далее. Социальная политика должна быть более умной, более точной.
Мое впечатление от данных состоит в том, что одна из самых больших вещей, которая дает эффект в области социальной политики и стоит относительно недорого, — это интервенции в ранних возрастах. В частности, такие простые вещи, как бесплатные сбалансированные обеды, двухразовое питание в школах могут иметь большие эффекты в течение жизни, положительные эффекты для усвоения школьного материала, улучшения поведения и так далее. Это, мне кажется, на макроуровне небольшие инвестиции, которые дают большие результаты. Вторая вещь, которую я хотел бы видеть больше, — использование налоговых стимулов, вычетов, в том числе на трудовой доход, которые не имеют больших негативных эффектов с точки зрения предложения труда, помогают увеличить занятость, в том числе для женщин, снизить разрыв в зарплатах.
Последнее: мне нравится идея государства как помощника, государства, которое проводит не общую политику социальную в отношении широких, слабо определенных групп, а проводит ее таргетированно, с учетом потребностей, всех знаний о нас, и помогает не просто поддерживать доход, а именно расти, развиваться и воплощать свой потенциал в полной мере».